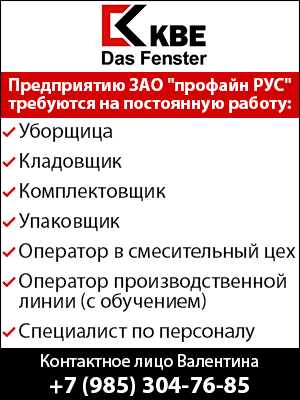«Русский танк»
…Олимпийский Мельбурн, 1956 год. Идут решающие схватки борцов классического стиля. В тяжелом весе советскую сборную представляет чемпион СССР Анатолий Парфенов.
Он получил путевку в Австралию после целой серии побед над именитыми противниками, в том числе над прославленным Иоганнесом Коткасом — олимпийским чемпионом, чемпионом мира, Европы и Советского Союза. В Мельбурне Анатолий одного за другим побеждает своих соперников, среди которых великолепный техник швед Антонссон, титулованный Дитрих из ФРГ. И вот, наконец, финальная схватка с Булгарелли.
Они сошлись в центре ковра: стодвадцатикилограммовый темпераментный итальянец и могучий, словно вырубленный из гранита, русский богатырь. В течение пятнадцати минут им предстояло вести бескомпромиссную, трудную борьбу — сделать последний шаг к вершине Олимпа. Всем своим видом Булгарелли не скрывал намерения выиграть единоборство — глаза горели, желание победить буквально было написано на лице.
Проходят десять минут поединка, и картина становится более чем ясной. Парфенов все время в атаке. Несколько раз он уже «вытаскивал» соперника на задний пояс и имеет в своем активе шесть драгоценных очков. Чувствуется, Булгарелли устал.
За пять минут до окончания схватки Парфенов сбил противника в партер, цепко обхватил торс, резко поднял над ковром и… разжал захват — неимоверная боль прорезала правую руку. Какое-то мгновение Анатолий смотрел на своего секунданта Вячеслава Павловича Кожарского.
«Все понимаю, но держись, нужно победить»
— говорили глаза старшего тренера сборной.
Булгарелли тоже сообразил, что соперник травмирован. Он попытался воспользоваться ситуацией и не упустить последний шанс — спасти, выиграть схватку. Но в тот же миг стальные тиски захвата снова сковали тело итальянца, так и не записавшего в свой актив ни одного очка. Звук победного гонга прервал атаку советского атлета.
В далеком Мельбурне звучал Гимн Советского Союза. Парфенов, радостный и взволнованный, стоял на высшей ступеньке пьедестала, а на его могучей груди сверкала золотая олимпийская медаль. Он хорошо знал ей цену. За ней стояли долгие годы высочайшей самодисциплины, безжалостные тренировки, изнурительные схватки с противниками, выходившими на ковер с единственной целью — победить.
Анатолий располагал богатейшим арсеналом спортсмена высочайшего класса: огромной физической силой и выносливостью, отточенной техникой и блестящей тактикой. Но было еще одно очень важное обстоятельство. Оно закалило его мужество и несгибаемую волю, сделало настоящим бойцом — он был солдатом Великой Отечественной.
На следующее утро одна из австралийских газет опубликовала восторженную статью о советском борце, предпослав ей весьма красноречивый заголовок: «Русский танк».
— Так и прилипло ко мне это прозвище,
— улыбается Анатолий Иванович,
— да я и не возражал, даже лестно было: танки-то наши хорошо свое дело делали и последний гусеничный след оставили на берлинских мостовых. Вот только не знал тот журналист, просто не мог знать, что в войну я был танкистом, механиком-водителем тридцатьчетверки…
Начинал войну семнадцатилетний Толя Парфенов в матушке-пехоте. Участвовал во многих боях, был дважды ранен. В последний раз так тяжело, что товарищи посчитали его убитым. Но могучий организм выдюжил, хотя и пришлось хирургам вести многочасовую борьбу за жизнь молодого бойца.
В октябре сорок третьего пулеметчик 5-й стрелковой роты 208-го гвардейского стрелкового полка Анатолий Парфенов дошел до приднепровского поселка Градежск — с двумя ранениями и тремя контузиями. В ночь на 5 октября передовой отряд во главе с офицером Требухиным на подручных средствах форсировал Днепр. Задача была одна — зацепиться за небольшой клочок земли на правом берегу и обеспечить переправу основных сил полка. Фашистам, откатившимся поначалу в глубь своей обороны, удалось все-таки закрепиться на высотке, откуда беспрерывно бил пулемет. Обстановка складывалась критическая — переправа могла сорваться.
Командир вызвал гвардии сержанта Парфенова.
— Бери с собой четырех бойцов и заткни ему глотку, чего бы это ни стоило! Прости, браток, людей маловато — знаю, но больше дать не могу. Вот только что гранатами поделиться…
Анатолий повел группу в обход, через кукурузное поле. Вышли вроде неплохо. Огляделись. До пулемета осталось метров сто, а местность — как на ладони. Договорились рвануться всем разом: кто-то обязательно должен добежать хотя бы на бросок гранаты. Повезло только Парфенову, остальных срезал фашистский «машинен гевер» — скорострельный пулемет. Боец прыгнул в небольшую воронку, когда до цели оставалось буквально несколько десятков метров. Гитлеровцы беспрестанно били по нему из пулемета и автоматов. Анатолий выбрал момент, резко вскочил, на какую-то секунду метнул «лимонку» раньше, чем раздалась пулеметная очередь. А еще через секунду правая рука, словно надломленная ветка, повисла вдоль тела. Но главное было сделано — пулемет замолчал.
Уже в госпитале узнал гвардии сержант Парфенов, что за мужество и отвагу удостоен высшей награды Родины — ордена Ленина.
После лечения Парфенов учился, стал механиком-водителем танка. Сотни фронтовых километров отмерила его тридцатьчетверка. Много было боев, глубоких рейдов по тылам противника. Всяко приходилось: и тонул, и не раз был подбит, и снова дважды ранен. Вновь лечился и опять воевал. Один из боевых эпизодов запомнился Анатолию Ивановичу на всю жизнь.
— Было это в ходе Висло-Одерской операции под городом Калеш,
— вспоминал Анатолий Иванович.
— Атакуя гитлеровцев с ходу, наш батальон наткнулся на минное поле. Сразу несколько танков подорвалось. Но о том, чтобы производить разминирование, и речи не могло быть — наступление могло захлебнуться. Значит, нужно было прорываться без инженерного обеспечения. Командир вызвал добровольцев. Я с товарищами сделал шаг вперед. Выбор пал на меня…
Тридцатьчетверка на максимальной скорости рванулась вперед. Это был исключительный по мужеству и отваге бросок. Шанс остаться в живых был, пожалуй, один из ста. К счастью, все обошлось: даже смерть порою щадит отважных. Все танки благополучно, след в след, прошли по его, Анатолия, трассе. За этот подвиг он был награжден орденом Отечественной войны II степени.
А закончил войну механик-водитель гвардии сержант Парфенов в поверженном Берлине и оставил свой автограф на рейхстаге. На одной из колонн так и написал:
«Анатолий Парфенов из Подмосковья. 9.05.45 г.»
После войны Анатолий Иванович работал слесарем на одном из московских заводов. Как-то в пятидесятом году зашел он в борцовский зал «Динамо» и застыл, завороженный: ловкие мускулистые парни, казалось, без особого труда бросали друг друга на ковер. В тот момент он очень пожалел о своем, как сейчас говорят, неперспективном возрасте — двадцать пять. Увлекшись, не заметил, что за ним пристально наблюдает тренер. Это был Андрей Антонович Гордиенко, воспитавший целую плеяду замечательных мастеров ковра.
— Что, нравится?
— поинтересовался тренер.
— Очень,
— выдохнул Анатолий и тут же испугался этого слова.
— Извините, я, кажется, поспешил с ответом — у меня шесть ранений, к тому же сквозное пулевое правой руки…
Гордиенко задумался, а потом сказал:
«Верю, что ты сможешь стать отличным борцом. Сложение у тебя богатырское, мышцы словно железные, а что тронуты вражеским свинцом — не беда. Завтра и приходи».
И полетели недели, месяцы, годы упорнейших тренировок. Порой давали о себе знать старые раны, но он только крепче сжимал зубы и сам себе твердил:
«Держись!»
Довольно скоро его «железные клещи» ощутили многие тяжеловесы, в том числе и сильнейшие борцы страны. В 1954 году Анатолий впервые стал чемпионом Советского Союза и был включен в состав сборной команды, которая начинала подготовку к Олимпиаде в Австралии. О том, как проявил себя «Русский танк» в далеком Мельбурне, мы уже знаем…